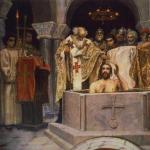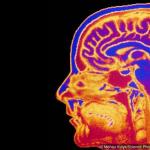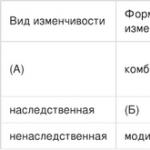Так называемый циркуляр о кухаркиных детях 1887. Кухаркины дети
Турки уничтожали армян как пятую колонну наступающей русской армии. Но сам Ник 2-й армян не резал, что правда, то правда.
О прекрасном образовании в Императароской России,так это среди казаков,на богатой донской земле,а что говорить о более северных землях???“…Что же представляли собой начальная и средняя школы в XIX веке? Вот описание Новочеркасского училища – так, если не хуже, выглядело и Царицынское: ”Помещается в деревянном доме, имеющем нижний этаж каменный… Многие из учащихся во время преподавания не имеют мест на скамьях, а во время письма должны или праздными быть, или заниматься другим не положенным в те часы предметом; каждый из упомянутых двух классов занимает по три комнаты, весьма неудобные для внимания слушателей по своему расположению; верхний этаж сего дома довольно ветх и с давнего времени по беспечности и нетрезвой жизни хозяина оставался без починки, в зимнее время весьма холоден, ибо потолки мокнут, а из подполов и сквозь стены дует…Ученики ко вреду здоровья принуждены переносить сие неудобство; невыгода 2-го класса, находящегося в каменном нижнем этаже, в комнате, бывшей прежде погребом, состоит в сырости и мрачности, хотя оные и отвращаются отчасти возможным наблюдением за чистотою”
Ещё времена Олега Вещего вспомни.
Машковский Николай Федосеевич родился в 1921 г. в д. Балахоновке Щегловского района. Живет там же. Рассказ записал Лопатин Леонид в августе 1999 г.
Ребятишки с 7 - 8 лет в колхозе работали. Если ребенок не работал в колхозе, отца вызывали на правление и на вид ему ставили за таких детей.
На все были нормы. Боролись за трудодни. За работу получали хлебом, а не деньгами. У нас в Балахоновке сильного голода не было. Мясо у нас было: Сибирь всё-таки. На колхозном поле была общая кухня. Женщины варили суп. Потом за эту похлебку из трудодней высчитывали.
У нас немногие получили образование. Я семь классов закончил в Щегловском совхозе, что в четырех километров от нас.
Ярокалова Евдокия Никифоровна родилась в 1906 г. в д. Холуи Кировской области. Живет в Мысках Кемеровской области. Рассказ записан Ковалевым Максимом в марте 1999 г.
Погрузили в вагоны для скота и повезли. Везли до Новосибирска целый месяц. Кормили редко, бросали нам только хлеб и воду. Свекровь и дети умерли в дороге. Их вынесли из вагона на какой-то остановке. Где и как они похоронены, мы не знали. Да и похоронены ли
В Новосибирске нас посадили в телеги, вывезли в тайгу и там сбросили вместе с нашими пожитками. Ночью было холодно. Мужики стали валить пихты, осины и рубить избы. Из нашей деревни согнали сюда же Рыловых, Жуковых. Мы с ними были родственниками. Из соседней деревни сюда же сослали еще три семьи. И стали мы вместе валить лес, корчевать пни. Взборонили землю, посадили хлеб, да картошку. Птиц убивали, разоряли их гнезда, варили похлебку, ели папортник. Летом бабы пошли наниматься в соседний колхоз. Работали за трудодни. Осенью у нас уже было 2 коровы, 7 кур, овцы. В ноябре приехало еще три семьи из нашей губернии. И мы от них узнали, по чьей указке нас раскулачили. К зиме стояло уже пять изб, колодец и родились дети: у меня дочь Мария, у племянницы моей - сын Максим.
Небольшая полоска земли дала хороший урожай. В зиму мужики ушли работу искать. Все мы остались под присмотром свекра Трофима. До раскулачивания в скоромные дни у нас еда была: щи мясные, каша, картошка, редька, квас, солонина. А здесь мы всю зиму ели калину, картошку, квас с редькой. Хлеб был редко. Когда мужики приходили, то рубили срубы. А весной построили еще 3 избы, и назвали деревню Диваевск. ...
Такого голода как в центральной России в Сибири не было: помогали, кормили друг друга. Собирали грибы, ягоды, охотились. Начали катать пимы. Муж Семен был мастером на все руки, хорошо делал сани, шил сапоги, шапки, шубы. Детей воспитывали в школе и дома. Старики украдкой молились. Бесплатно учились только первые 4 класса, а потом за учебу в школе платили. После войны до 7 классов от уплаты освобождались только дети погибших фронтовиков. В колхозе люди работали за килограмм зерна и тянули всю страну.
Соседи между собой говорили только на бытовые темы. Боже сохрани - о политике.
Edited at 2018-10-10 21:43 (UTC)
Чечевский Николай Остапович и Чечевская (Боброва) Ефрасинья Федоровна родились в 1917 г. Живут в п. Щегловском Кемеровской области. Рассказ записала Лопатина Наталия в августе 1999 г. (спецэкспедция фонда "Исторические исследования").
Ефросинья Федоровна - Вы спрашиваете, какая у нас была свадьба. Что Вы, какая свадьба? Жрать нечего было! Я с мамой жила. Николай с друзьями приехал, мы сошлись и - все! Друзья уехали, а он остался.
Я работала учительницей младших классов. Закончила в городе 10-месячные курсы. Нас с подружкой распределили по окончании курсов в Щегловский совхоз. Мы сюда приехали, увидели здешнюю жизнь, ужаснулись. Давай плакать! Пришли в контору, стали упрашивать, чтобы нам выдали документы. Но нам их не отдали. Так я здесь и осталась.
Человек ко всему привыкает.
Николай Остапович - Я родился в деревне Иверка Ижморского района Кемеровской области. Наша семья была бедной. Мы бедняками были. Мать ходила к кулакам жать. Уйдет - темно, придет - темно. Старшая сестра в няньках ходила, а я с младшей сестрой (она с 1923 г.) оставался. А когда я был совсем маленький, мать нажует мне хлеба, сунет в рот, и соси эту соску целый день в зыбке. Мать с собой от кулаков горох приносила, мы его и ели.
В семь лет я остался сиротой и жил у кулаков (плачет). Хозяев я называл "тётька", "дядька". У них все делал: полы мыл, с детьми водился. За это они меня кормили, одевали. Сами поедят, а что осталось, мне отдают (плачет). Конечно, ко мне не такое отношение было, как к своим детям, но меня не били. А вот своих детей кулаки били, если те чего не так делали, ленились работать. И не наказывали меня шибко. Не было и такого, чтобы меня не кормили.
В Щегловку я попал в 1932 г. Здесь в 1931 г. стали строить совхоз. Вот наши ребята и подались сюда. Убежали от голода. Чтобы прикрепить колхозников к колхозу, паспортов нам не выдавали. Уехать можно было только по вербовке на какую-нибудь стройку. К нам приехал вербовщик, и я завербовался в Щегловку.
Женился я после войны. Жена учила ребятишек, и мы жили в школе. Детки ходили через нашу кухню в свой учебный класс. Это не совсем школа была. Это было строение, крытое соломой, без света. В нем во время дождя невозможно было находиться. Как дождь, мы под столом прятались, так как он воду не пропускал. Мы в этой школе жили до 50-х годов. Своих детей у нас нет.
Не верьте, когда говорят, что тогда люди помогали друг другу, всем делились. Неправда это. Не было такого. Каждый за себя. Выживал, кто как мог.
Я не жил, а существовал! Всю жизнь - борьба за элементарное существование.
Муратовских Анна Прокопьевна, 1926 год, агроном
В четырнадцать лет из колхоза нас собрали учиться в ФЗО, хоть мы не хотели учиться на слесарей, токарей. Делалось все это насильно. Увезли нас в Тагил, поставили к станку, не кормили. Показали, как работает станок, и заставляли работать. Я очень скучала, ведь оторвали насильно от земли, от родни. Не выдержали мы, сговорились и решили сбежать из ФЗО. А было это в декабре. Мороз -40 градусов. Садились в товарные поезда с углем и ехали. Три раза меня милиция с поезда снимала. Подержат немного, смотрят - девчонка худущая (при росте 170 сантиметров весила 35 килограммов), одни глазенки остались. Так и отпускали. А я снова на поезд и ехала. Добиралась восемь суток.
До Котельнича добралась, потом в деревню, чтобы никто не видел. Скрывалась всю зиму на полатях да в подполье.
«Циркуляром о кухаркиных детях» 130 лет назад возмущалась вся прогрессивная общественность Российской империи, но не это возмущение привело к революции, а некоторые подводные камни, таившиеся в безобидном начинании Александра III.
1 июля 1887 г. , в Министерстве просвещения Российской империи появился циркуляр, озаглавленный так: «О сокращении гимназического образования» . Документ был секретным, так сказать, для служебного, внутреннего пользования. Статусом закона или даже указа он не обладал, тем не менее значение этой скромной бумаге придаётся огромное. В истории России этот документ утвердился, как «Циркуляр о кухаркиных детях».

Часто приходится слышать, что именно этот документ явился одной из причин сильно возросшего общественного недовольства, которое впоследствии привело к взрыву революционных настроений. В частности, возмущение общественности вызывал вот этот фрагмент:
«Нужно разъяснить начальствам гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

«Нужны профессионалы»
Можно видеть, что о «кухаркиных детях» здесь речи нет, однако социальная дискриминация прослеживается. Получалось, что, если ты родился в бедной семье кучера, лакея, повара или прачки , тебя не то что не возьмут учиться в гимназию, но и думать об этом детям не следует, и стремиться к образованию им не положено.
Сейчас пытаются оправдать появление этого циркуляра вполне объективными предпосылками. Дескать, начиналось индустриальное развитие державы, для которого перепроизводство выпускников классических гимназий с их греческим, латынью и общим гуманитарным уклоном не очень-то и нужно. Скорее, даже вредно. А нужно, наоборот, побольше людей с крепким средним профессионально-техническим образованием.
Действительно, параллельно с циркуляром о «кухаркиных детях» появляется целый ряд нормативных документов, показывающих, что правительство работает именно в этом направлении. В 1839 г. появились первые «реальные классы для временного преподавания технических наук». В 1864 г. классы стали реальными гимназиями. В 1872 г. - реальными техническими училищами. В 1888 г. повсеместно учреждаются промышленные училища, ремесленные училища, химико-технические училища и даже отдельные школы при ремесленных училищах со слесарными и столярными отделениями. Реформа среднего технического образования в России шла долго и муторно, почти полвека.

Через год после циркуляра о «кухаркиных детях», реальные училища стали полноценными учебными заведениями. В 1888 г. завершилась многоступенчатая реформа, которая наконец-то снабдила Российскую империю средними учебными заведениями технического профиля , их выпускники получили право поступать в университет. Правда, только на физико-математический или медицинский факультет.

Пусть «кухаркины дети» не могут поступать в гимназии, есть же и другие заведения, есть выбор, иди куда хочешь. В ремесленном училище и сам выучишься, и государству польза будет.


Устный счет в школе в 1895 г.
Кризис управления
Однако на самом деле прорыва не случилось, и эти реформаторские шаги в техническом образовании не принесли настоящей пользы государству.
Современник и свидетель этих реформ, историк Василий Ключевский, дал чеканно сформулированный комментарий по политике в сфере образования: «В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало, вторые беспомощны, потому что их слишком много».
Золотые слова, и сказаны вовремя — похоже, что правительство к ним прислушалось и развернуло целую сеть реальных училищ именно для того, чтобы воспитать «мастеров». Должна была заработать система образования, дающая государству «гениев»- генераторов идей, и грамотных «исполнителей», «мастеров», занимающихся непосредственно производством. Ждали, что система будет работать, но система почему-то не работала, не смотря на то, что есть и квалифицированные специалисты высшего и среднего уровня, и дешёвая рабочая сила. Дело в том, что страну поразил первый кризис индустриализации, при котором обнаружилась нехватка управленцев. Их нужно было откуда-то взять, причём в достаточно большом количестве.
Циркуляр о «кухаркиных детях», призванный сократить широкий доступ именно к гуманитарному гимназическому образованию, к той самой сфере обучения, которая могла дать управленцев широкого профиля. Не технарей или мастеров, а специалистов, умеющих ясно ставить задачи производства перед рабочими, свободно излагать свои мысли, то есть работать с людьми. За тринадцать лет действия циркуляра о «кухаркиных детях», отказывающего в среднем образовании большой социальной группе населения, привёл к ощутимому дефициту грамотных управленческих кадров на производстве.

На социальную дискриминацию откликнулись «народники», отправившиеся «в народ», в сёлах возникали частные деревенские школы, воскресные школы для взрослых и детей, устраивали воскресные чтения, ради просвещения селян. Недовольство социальной дискриминации росло и в городах, его поддерживали и направляли в нужное русло революционеры разных политических направлений. Протестные устремления общества сформулировал В.И. Ленин в тезисах: «Мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники» . Требовали этого не только большевики, сколько сама экономическая жизнь и ежедневное, будничное малое и среднее производство.
Одним из доказательств наступления реакции в годы правления императора Александра III обычно называют знаменитый «циркуляр о кухаркиных детях». Согласно распространенной точке зрения, в данном циркуляре содержались рекомендации директорам гимназий и прогимназий осуществлять фильтрацию детей при приеме в учебные заведения. Цель таких рекомендаций была вполне понятна – обеспечить своеобразную сегрегацию по социальному признаку, не допуская в гимназии и прогимназии детей малообеспеченных слоев населения.
Но в действительности какого-либо официального законодательного или иного нормативного акта под названием «циркуляр о кухаркиных детях» просто не существовало. Данные рекомендации лишь излагались в докладе, который 18 июня 1887 года императору Александру III представил министр народного просвещения Российской империи Иван Давыдович Делянов.
Известный российский государственный деятель Иван Давыдович Делянов (1818-1897), прежде руководивший Публичной библиотекой, занял пост министра народного просвещения 16 марта 1882 года. Выбор императора не был случайным: Делянов считался деятелем консервативной ориентации, поэтому его назначение лоббировали граф Дмитрий Толстой, Константин Победоносцев и Михаил Катков. В свое время, когда граф Дмитрий Толстой занимал пост министра народного просвещения, Иван Делянов был товарищем (заместителем) министра народного просвещения, что и обусловило протекцию со стороны графа.
Интересно, что, пока у власти находился император Александр II, проводивший довольно либеральную политику, Делянова если и можно было назвать человеком консервативных взглядов, то весьма умеренным в своем консерватизме. Он ничем особо не выделялся среди прочих государственных чиновников, а в бытность руководителем Публичной библиотеки отметился исключительно положительными делами на этом посту, заботясь о всестороннем развитии вверенного ему учреждения. Именно он был автором крайне либерального устава библиотеки, в котором говорилось, что «библиотека, имея назначением служить науке и обществу, открыта для занятий всем желающим». Забракован этот устав, между прочим, тогда был как раз графом Дмитрием Толстым, а либеральная общественность в то время очень высоко оценила этот проект.
Поскольку после убийства Александра II в стране наметился явный консервативный поворот, сфера народного просвещения была признана одной из важнейших в плане борьбы с революционными настроениями. За системой образования надлежало следить очень тщательно, чтобы, во-первых, исключить возможность дальнейшей радикализации учащейся молодежи, распространения среди них революционных идей, а во-вторых – максимально ограничить доступ к образованию низших слоев населения. При этом, если говорить именно об образовательной составляющей, то в годы правления Александра III она развивалась отнюдь не плохо – так, особое внимание уделялось совершенствованию технического образования, поскольку этого требовали задачи развития промышленности, железнодорожного сообщения, морского флота.
Став министром образования, Делянов быстро уловил изменившийся вектор внутренней политики и переориентировался на крайний консерватизм. Он переподчинил начальное образование Святейшему Синоду, в ведение которого были переданы все церковно-приходские школы и младшие школы грамотности. Что касается высших учебных заведений, то в 1884 году была ограничена университетская автономия, профессора стали назначаться, а студенты теперь сдавали специальные государственные экзамены.
В 1886 году Делянов распорядился закрыть Высшие женские курсы. Правда, в 1889 году их вновь открыли, но программа обучения была существенно изменена. Кроме того, Делянов серьезно ограничил возможности поступления лиц еврейской национальности в высшие учебные заведения империи, введя процентные нормы для их поступления. 
23 мая 1887 года Делянов обратился к государю императору с предложением ввести законодательный запрет приема в гимназии детей большинства российских сословий кроме дворян, духовенства и купцов. Однако Александр III, хотя и был человеком консервативным, не был лишен здравого смысла и не собирался идти на столь жесткие меры. Ведь такой закон лишил бы возможности получения качественного образования детей мещан и крестьян.
Принятие подобного закона было бы серьезным ударом и по экономике страны, поскольку она требовала все больше и больше квалифицированных специалистов в самых разных областях и одни лишь дворяне, духовенство и купцы уже не были в состоянии обеспечить эти потребности, да и дети духовенства и купцов обычно шли по стопам родителей, а дети дворян – на военную или государственную службу.
Император это прекрасно понимал, но и консервативные деятели не собирались отказываться от своей позиции – они видели в массовом гимназическом образовании очень серьезную опасность для существующего строя. Хотя революционерами часто становились и дворяне, в том числе титулованные (например, князь Петр Кропоткин), но все же основной силой революционного движения были студенты – выходцы из мещанской и крестьянской среды.
Во время совещания министров внутренних дел, государственных имуществ, управляющего министерством финансов, обер-прокурора Святейшего Синода Российской империи и министра народного просвещения был сделан вывод о необходимости ограничения «вертикальной мобильности» из «неблагородных» слоев населения за счет создания барьеров в получении образования для мещан и крестьян. Таким образом, Делянов заручился поддержкой Победоносцева и ключевых министров, что придало ему еще большей уверенности.
В результате совещания императору был представлен специальный доклад «О сокращении гимназического образования». Именно в нем и шла речь о так называемых «кухаркиных детях», хотя этот термин и не использовался. Делянов подчеркивал, что вне зависимости от внесения платы за обучение необходимо рекомендовать руководству гимназий и прогимназий принимать на обучение только тех детей, кто находится на попечении лиц, способных поручиться о правильном домашнем надзоре за ними.
В докладе подчеркивалось:
Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию.
Эти слова Делянова впоследствии и дали основание недовольной общественности прозвать доклад «циркуляром о кухаркиных детях». Чем не угодили Делянову повара, прачки и мелкие лавочники и чем их дети были менее благонадежны, чем дети крестьян или промышленных рабочих, остается только догадываться. Почему-то именно перечисленные профессии, представители которых, кстати, как раз и не играли никакой существенной роли в революционном движении, были выбраны министром народного просвещения в качестве олицетворения социального неблагополучия и политической неблагонадежности.
Министр Делянов просил окончательного одобрения этой рекомендации самим императором, поясняя, что это позволило бы выйти в Комитете министров с представлением об ограничении известным процентом приема в прогимназии и гимназии детей евреев, к которым могла бы быть применена мера о недопущении в гимназии и прогимназии детей евреев из низших сословий.

Но ни к каким реальным последствиям для российского гимназического образования доклад министра Делянова, как ни странно, не привел. Во-первых, обучение в гимназиях было платным. Соответственно, в любом случае отдавать своих детей в гимназии могли лишь те родители, кто был в состоянии оплачивать обучение. Среди представителей перечисленных профессий таких людей практически не было.
Во-вторых, доклад Делянова подчеркивал возможность предоставления права на обучение в гимназии одаренным детям перечисленных профессий. Кстати, одаренные дети и так по ограниченной квоте могли быть приняты на обучение в гимназии на казенный счет. То есть, империя все же не открещивалась от их обучения, хотя понятно, что доказать свою одаренность было очень и очень сложно.
Единственной мерой, способной реально ограничить возможности выходцев из низших слоев в поступлении в гимназию, было закрытие подготовительных классов при гимназиях. Поскольку представители неблагородных слоев самостоятельно готовить детей к поступлению в гимназию, по понятным причинам, не могли, закрытие подготовительных классов действительно было серьезным ударом.
Тем не менее, «циркуляр о кухаркиных детях» вызвал крайнюю бурю негодования в российском обществе. Особенно возмутились революционные и либеральные круги. Это и было понятно – министр Делянов использовал в своем докладе тон, который был бы уместен в XVIII веке, но не в самом конце XIX века, когда весь мир уже изменился, и заниматься откровенной дискриминацией собственных подданных по социальному признаку было весьма недальновидно.
Тем не менее, текст доклада был разослан всем попечителям учебных округов. После этого в Российской империи было упразднено большинство подготовительных классов при гимназиях. Кроме того, имели место и случаи отчисления из гимназий детей из «неблагородных» сословий. Естественно, что эта политика получила всестороннее освещение в революционной и либеральной прессе, которая получила возможность еще раз заклеймить реакционную составляющую политического курса Александра III.
Резюмируя образовательную политику Российской империи в «период реакции», следует отметить ее крайнюю недальновидность. Правящие круги империи были убеждены, что народное образование является одной из главных угроз существующему порядку. С образованием для широких слоев населения связывалось «разложение» населения, считалось, что образование якобы «вредно» для рабочих и крестьян. При этом не учитывалось, что практически все ключевые фигуры российского революционного движения были выходцами либо из дворян, либо из духовенства, либо из купечества, а разночинцы лишь следовали за ними и принимали популяризуемые ими идеи.
К прямым последствиям ограничений на образование можно отнести, например, и радикализацию еврейского населения. Еврейская молодежь из обеспеченных семей в большинстве своем выезжала для получения высшего образования в страны Западной Европы, где существовали в то время практически неограниченные возможности для знакомства с новыми революционными идеями. В Россию молодые студенты и выпускники вузов возвращались не только с высшим образованием, но и с «полным багажом» в виде революционных идей и установленных с западными революционерами личных связей. Между тем, может этого и не случилось бы, получай они образование в Российской империи.
Ограничения на образование для представителей различных этнических и социальных групп прямо вредили и экономическому развитию страны. Вместо того, чтобы создавать всесторонние условия для повышения грамотности населения, получения им среднего и высшего образования, особенно по востребованным техническим специальностям, власть искусственно консервировала устаревшие социальные порядки, препятствовала вертикальной социальной мобильности, стремилась удержать крестьян и мещан в приниженном социальном положении и не допустить их продвижения на какие-то значимые позиции. Понятно, что правящая элита опасалась за свое положение, стремилась сохранить максимум своих привилегий, не обладая при этом политической дальновидностью и способностью к прогнозированию дальнейшего развития событий. Спустя тридцать лет она потеряла все.
В результате Россия получила технологическое отставание и дефицит квалифицированных кадров на фоне переизбытка неквалифицированной и неграмотной рабочей силы, воспроизводившейся в крестьянской среде. Закономерным результатом такой политики крайней социальной поляризации и дискриминации и стали три революции начала ХХ века, вторая из которых уничтожила самодержавие, а третья стала отправной точкой к колоссальному и невиданному прежде социально-политическому эксперименту – созданию советского государства.
Доля профессиональных кадров без высшего образования в экономике России в ближайшие годы будет постоянно расти, считает вице-премьер правительства России Ольга Голодец. «У нас есть просчитанный баланс, он составляет, примерно, 65% на 35%. При этом, 65% - это люди, которым не требуется высшего образования. Поэтому в ближайшем будущем пропорция в экономике будет меняться в сторону увеличения доли людей без высшего образования», - сказала О.Голодец журналистам.
© Интерфакс
Оглянувшись назад, констатируем: с XVIII века возможность получить в России образование не то чтобы неуклонно, но все-таки расширялась.
При Петре – каких только школ не насоздавали, не одну же навигацкую.
При Анне Иоанновне появились гарнизонные школы для детей солдат.
При Елизавете Петровне расширили сеть начальных школ и открыли гимназии.
При Екатерине вообще прошла школьная реформа с созданием народных училищ.
Александр I не только министерство народного просвещения учредил, но и ввел в образовании бессословность, а на начальных этапах – еще и бесплатность.
Александр II вернул университетам автономию, а школы, наряду с государственными, стали еще и земскими, и частными.
При Николае II, перед Первой мировой, в Думе рассматривался вопрос о введении всеобщего начального образования (правда, окончательно принять не успели).
Но вы заметили, что я перечислила не всех правителей?
Действительно, были и исключения. Николай I, в частности, придал образованию сословный характер. Был издан указ, запрещавший принимать крепостных в гимназии и университеты (лишившиеся заодно своей автономии). Начальное же и среднее образование поделили на три категории: для детей низших сословий – одноклассные приходские училища (изучались арифметика, чтение, письмо и закон Божий), для средних сословий, то есть мещан и купцов – трёхклассные училища (плюс геометрия, география, история), для детей дворян и чиновников – семиклассные гимназии (там готовили к поступлению в университет).
А при Александре III и вовсе был издан тогдашним министром просвещения так называемый «циркуляр о кухаркиных детях» (официально он именовался «О сокращении числа учеников в гимназиях и прогимназиях и изменении состава оных»). Правда, прямого указания принимать учащихся исключительно по сословному принципу там не было (это все-таки противоречило бы законам, принятым еще при Александре II). Но элегантный способ вывернуться все же нашли. Цитирую:
«…Независимо от возвышения платы за учение, было бы, по крайней мере, нужно разъяснить начальствам гимназий и прогимназий, чтобы они принимали в эти учебные заведения только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию .»

Но знаете, что пришло мне тем временем в голову?
А ведь оба «гонителя» образования, и Николай I, и Александр III, сами должного образования не получили. «Должного» – это для позиции главы государства. Ни тот, ни другой не предназначались с детства для занятия престола и оказались на нем в общем-то случайно. А образование получили чисто военное. Не до университетов им было…
19/07/2017
30 июня 1887 года. Издан знаменитый циркуляр «О кухаркиных детях», закрывающий доступ представителям низших сословий в университеты.
И мператор Александр III - кумир всех настоящих русских патриотов. Он проводил контрреформы, упраздняя по мере сил либеральные начинания своего отца, говорил, что у России только два союзника - армия и флот, а также - что пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать. И, конечно, знаменитое «Россия для русских» (хотя в его понимании русский - это не национальность, а подданство).
Одним из важных направлений в политике борьбы с бациллой революции было ограничение доступности высшего образования, которое при его либеральном отце стало всесословным. Поскольку понятно, что вся революция - от студентов и немного от евреев.
По существовавшим тогда правилам для поступления в университет требовалось иметь гимназическое образование. Именно на этапе поступления в гимназию всем лишним людям и был поставлен заслон. В 1887 году министр народного просвещения граф Иван Делянов предложил просто запретить принимать туда детей из сословий ниже купцов 2-й гильдии. Но Александр «изволил на всеподданнейшем докладе министра выразить мысль, что, признавая эту меру несвоевременною и неудобною, полагает за лучшее достигнуть цели отвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей лиц, не соответствующих по домашней их обстановке среднему образованию, другими какими-либо способами». И велел Делянову подумать еще.
Делянов подумал (скорее всего, не сам, так как, по воспоминаниям современников, был человеком добрым и безвольным, находившемся всецело под влиянием главного идеолога консервативной политики Константина Победоносцева). В результате родился циркуляр «О сокращении гимназического образования», предписывавший директорам гимназий «принимать только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства». Одновременно была повышена плата за обучение, сокращено число самих гимназий и введена пропорциональная квота для евреев. Таким образом, резюмировал Делянов, «гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».
«Если наш школьный знакомый получает видный государственный пост, мы рады за него, но тревожимся за будущее страны». Билл Вон
Справедливости ради надо сказать, что, закрывая для детей из низших сословий двери университетов, власти оставляли им путь в технические институты, поступать в которые можно было, окончив реальные училища.
Циркуляр циничен, но и Александра III можно понять. Как раз в это время в Петербурге судили народовольцев, которые готовили «второе первое марта» - планировали покушение на царя, приурочив его к 6-й годовщине убийства Александра II , совершенное 1 марта 1881 года. Еще 27 февраля охранка задержала на Невском трех подозрительных молодых людей, которые на протяжении нескольких дней гуляли туда-сюда по проспекту. У каждого из них была обнаружена бомба, все они были студентами университета, причем двое - из казаков, а один - мещанин. Студенты признались, что собирались убить царя. Очень скоро полиция разыскала и остальных террористов, в том числе Александра Ульянова. Александр Ульянов жил и хранил запчасти для изготовления бомб на квартире акушерки Ананьевой. Ананьеву тоже арестовали, потом сослали на каторгу.
По своему сословию Ананьева была крестьянкой и в показаниях рассказывала следователям, что сын ее не может поступить в гимназию (хотя старшая дочь гимназию закончила). На полях этих показаний Александр III , внимательно их читавший, оставил пометку: «Это-то и ужасно! Мужик - а тоже в гимназию лезет».
Еще одна знаменитая резолюция была оставлена Александром III на докладе тобольского губернатора, который сообщал, что 90% населения его губернии - неграмотное. «И слава Богу!» - написал император.
В общем, не пустив кухаркиных детей в гимназии, Александр III в какой-то степени спас свою жизнь. Чтобы умереть в 49 лет от болезни почек, усугубленной, как утверждают злые языки, неумеренным употреблением алкоголя. Однако оставил в наследство своему сыну большое число неудовлетворенных кухарок, которые отобрали у него власть, чтобы самим управлять государством.
Фото: картина Богданова-Бельского "Урок математики"